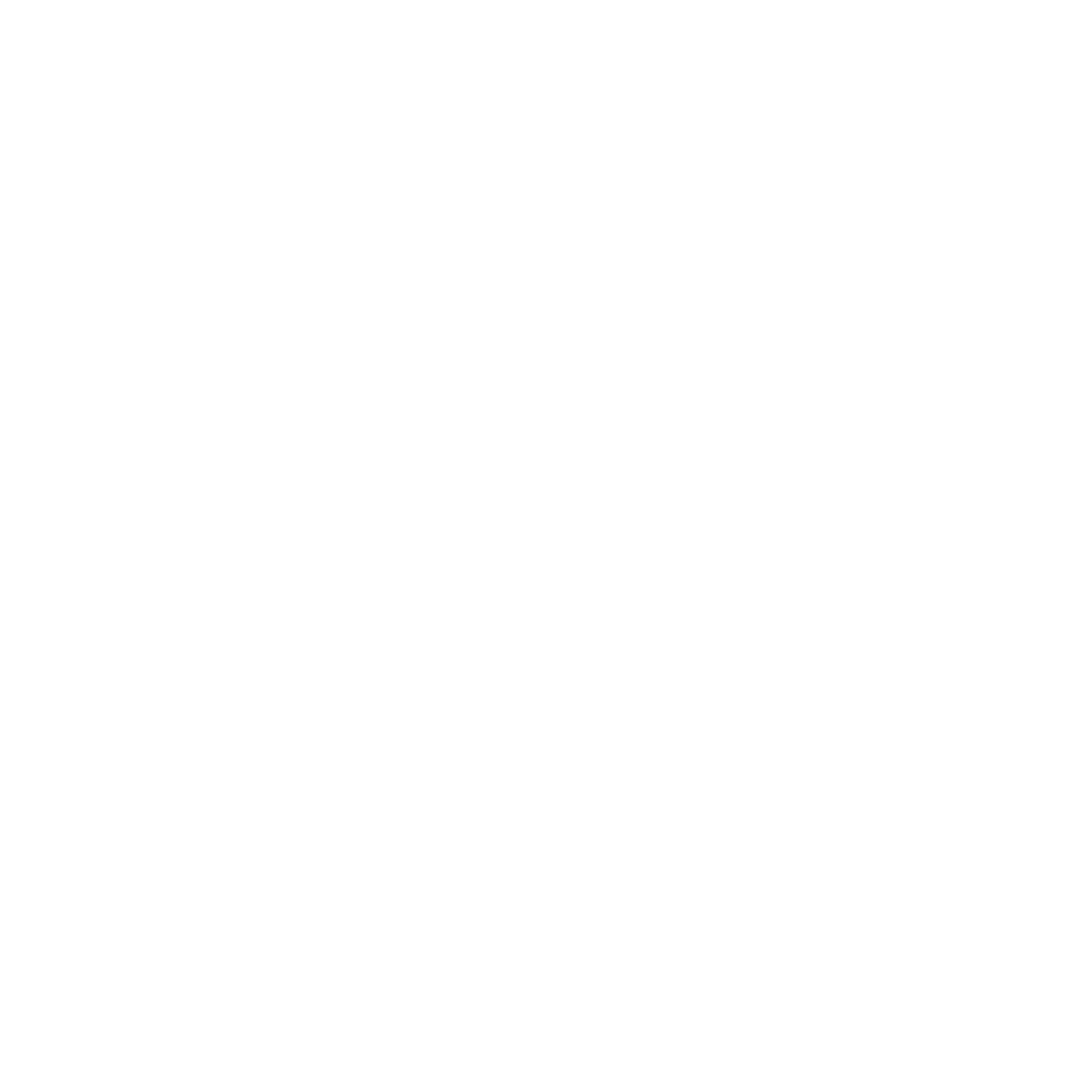"Наша реальность ставит человека перед выбором — быть рабом или изгоем. Не многим моим знакомым, живущим в эмиграции, удаётся полноценно интегрироваться в общество. И дело не только в языке. Дело в ощущении „свой-чужой“, на котором построена современная цивилизация. Мы лучше поругаемся со „своими“, чем будем мириться с „чужими“. Это грустно и смешно. Поэтому история у нас получается грустная и смешная!"
В постановке Юрия Муравицкого герои пьесы в исполнении Игоря Скляра и Юрия Чурсина становятся участниками остросюжетного театрального телешоу. Они темпераменты и непримиримы и бесконечно спорят о том, кто прав! Они из разных поколений, да просто – из разных миров! Но есть то, что их объединяет. Они – ЭМИГРАНТЫ.
Смех и слезы, товарищество и предательство, тоска по Родине и мечты о лучшей жизни, ирония и искренность – все в этом азартном споре, в финале которого нет и не может быть победителя.
Телевизионное шоу – метафора вечного выбора человека: жить просто или сложно? Но ответа нет.
Премьера состоялась 9 марта 2021 г.
Продолжительность спектакля 1 час 50 минут, без антракта.
группа
Режиссер Юрий Муравицкий
Продюсер Леонид Роберман
Художник Екатерина Щеглова
Художник по свету Нарек Туманян
Перевод Леонард Бухов
Композитор Луи паскаль Лебе
Креативный продюсер Ольга Хенкина
Исполнительный продюсер Настя Ванькова
Технический директор Максим Абрамов
Помощник режиссера Наталья Чернова
Свет Андрей Красульников
Звук Алиса Ивата, Юрий Карый
Костюмер Елена Воробьева
-
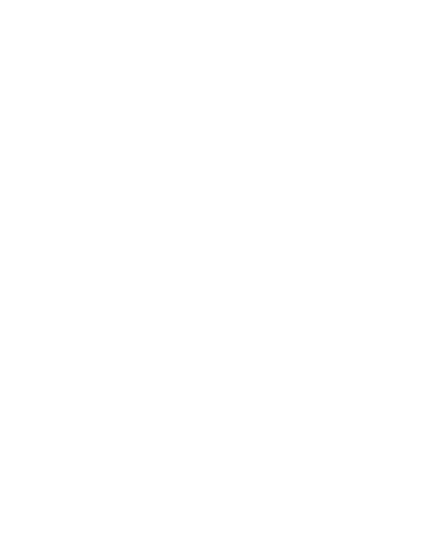 АЮрий ЧУРСИН
АЮрий ЧУРСИН -
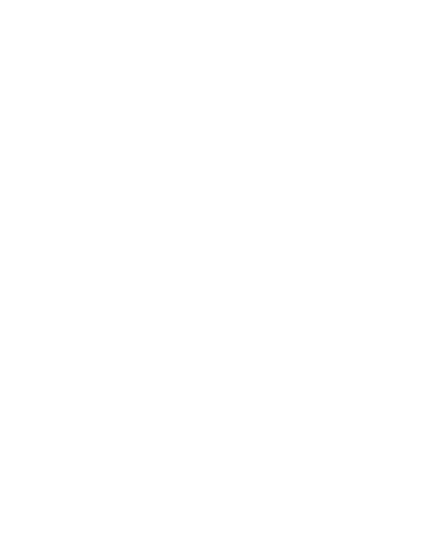 ХИгорь СКЛЯР
ХИгорь СКЛЯР -
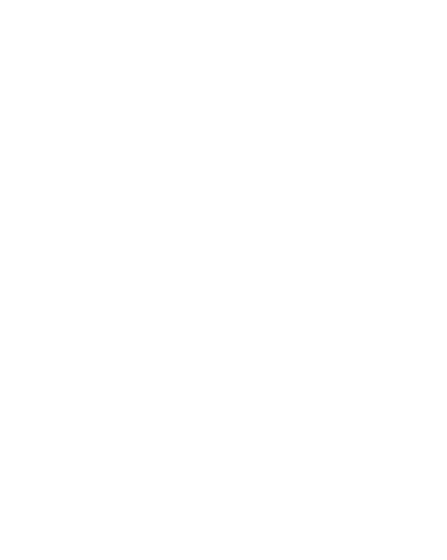 ТрубачИван Патрушев
ТрубачИван Патрушев -
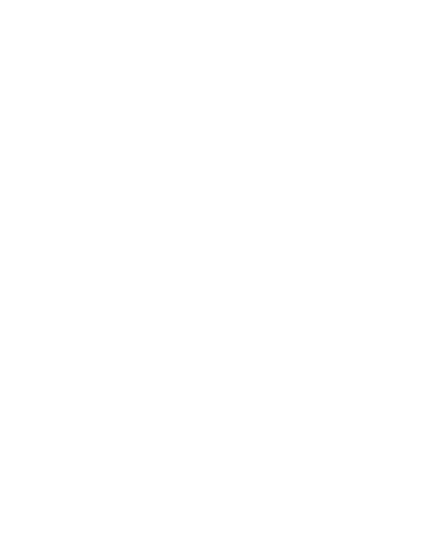 ТрубачОлег ЧЕРНОВ
ТрубачОлег ЧЕРНОВ
Пьесу польского классика ХХ века Славомира Мрожека «Эмигранты» (1974) зачастую считают вершиной его творчества. Дело не только в болезненно-актуальной теме изгнанничества как состояния и внешнего, и, прежде всего, внутреннего. Пьеса стала этапной для Мрожека: герои «Эмигрантов» — не просто выражение двух полярных позиций, взаимоисключающих взглядов на мир, но вполне «живые люди», сознание и подсознание которых препарируется в ходе их диалога-противостояния.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Написанная в 1974 году в эмиграции во Франции, пьеса считается одной из основных в творчестве польского драматурга. Для Мрожека тема поиска Родины была актуальна долгое время: более 20 лет писатель жил за пределами Польши – в Америке, Германии, Италии, Мексике, Франции, и лишь в начале 90-х вернулся обратно в Варшаву.
Пьеса «Эмигранты» о двух соотечественниках, оказавшихся вдали от Родины. Они не имеют имен, лишь обозначения: АА – интеллигент, сбежавший на Запад по политическим мотивам в поисках Свободы с большой буквы, ХХ – мужик-работяга, приехавший на заработки. Первый мечтает о написании великого философского труда, второй – заработать побольше и уехать назад в деревню, чтобы построить для своей семьи дом на зависть всем соседям. Волею случая они живут вместе и ведут бесконечные споры по любому поводу, начиная с того, кто будет заваривать чай и заканчивая глобальными вопросами мироздания.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Всего два актёра и два часа действия, от которого невозможно оторваться ни на долю секунды. Сложнейший текст, философские монологи, метафоры, сравнения и бурные эмоции… Роль интеллигента досталась Юрию Чурсину, который справился с ней настолько хорошо, насколько это возможно. Его персонаж — этакий провокатор, но в то же время человек, который хочет свободы для всего общества. Он искренне не понимает, как можно быть идеальным рабом, какой в этом смысл, и изо всех сил пытается с этим бороться. Роль простака и антагониста блестяще сыграл Игорь Скляр (советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант. Народный артист РФ). У данного персонажа речь гораздо проще, но зато драмы в роли хватает.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
У моего персонажа есть очень точная и созвучная мне фраза «Свобода — это способность распоряжаться самим собой». Что не исключает ответственности, основанной на твоем собственном выборе. И надо помнить, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
- Иногда видно. Вот сейчас мы играем спектакль «Эмигранты» с Игорем Скляром, и там зал специально чуть-чуть подсвечивается, чтобы у нас был контакт со зрителями. Опасная вещь, когда ты начинаешь видеть то, что обычно скрывает пресловутая «четвертая стена». Кто-то скучает, кто-то спит друг на друге, на галерке целуются. Зал живет своей жизнью.
Что чувствует актер: сначала волнение, а потом возникает тот удивительный момент, когда вдруг реплика партнера или твоя, пущенная партнеру, становится как бы репликой всех, кто присутствует в зале. Вот особенно в чеховских спектаклях это чувствуется, когда вопрос «Кто я, зачем я?» заставляет зрительный зал замереть. И вот эти секунды – самые ценные.
В «Эмигрантах» очень много разговоров о свободе, о том, что это такое и насколько человек свободен. И в какой-то момент я спрашиваю Игоря: «А ты бы смог донести на меня?» И вдруг весь зрительный зал понимает, что сейчас происходит между нами двумя, вернее, между нашими героями.
Я вспомнил про донос, потому что у меня совсем недавно случился разговор с подростком. Выпускников собрали в классе и сказали, что на экзамене можно получить повышенный балл, если указать тех, кто списывает. То есть троечник может вытянуть себе оценку на четверку за счет доноса. Представляете, какой выбор стоит перед подростком? Когда спектакль затрагивает такую щемящую и острую тему, ты соединяешься со зрительным залом, и ради этого действительно стоит выходить на сцену.
- «Эмигранты» – проект антрепризы Леонида Робермана, я с ним разговаривала накануне премьеры. Он сказал, что обещал вам этот спектакль довольно давно и отказаться от своего слова не мог.
- Это правда. Леониду Семеновичу было интересно поработать со мной, и мы стали искать точки соприкосновения. Мне давно хотелось сыграть в пьесе на двоих мужчин, чтобы не было таких облегчающих обстоятельств, как любовь, романтика, а только разговор на какую-то серьезную тему. Леонид Семенович предложил «Эмигрантов» Славомира Мрожека и совершенно восхитил меня тем, что решился освоить такой сложный материал на фоне антрепризы.
- Спектакль действительно сложный, требует от зрителя внимания, поскольку режиссер Юрий Муравицкий сделал его в форме телешоу: два человека, глядя друг другу в глаза, спорят о том, как надо жить.
- Пьеса написана в условиях жирного, густого быта, а у нас этот быт вынут, остался только текст. С одной стороны, мы обречены тащить его на собственных плечах, а с другой – в какой-то момент становится неважно, есть ли на сцене стол, который упомянут в ремарке, потому что мы с Игорем Борисовичем Скляром начинаем выяснять очень глубокие, человеческие вещи.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Два человека в новогоднюю ночь в чужой стране, в крохотной комнатке под лестницей ведут споры-разговоры о жизни и политике. Это спектакль "Эмигранты" по пьесе Славомира Мрожека театрального агентства "Арт-Партнёр XXI" с Игорем Скляром и Юрием Чурсиным. И всё это приправлено трубой Ивана Патрушева.
Несмотря на то, что пьеса написана в 1973 году, в год моего рождения, она вневременная и внепространственная. Здесь нет имён героев, просто А. и Х., и нет названия стран из которых они приехали. Здесь нет названия страны, в которую они эмигрировали. Но в спектакле поднимаются общежитейские темы. Темы маленьких людей в большом городе. И тут неважно эмигранты они или нет. В большой степени здесь идут разговоры, которые шли и идут на наших кухнях за рюмкой чая.
Да, это напомнило мне именно кухонные разговоры моих родителей с родными и друзьями, когда начав с бытовых тем они всё больше уходили в темы политические и, чуть выпив, иногда начинались горячие споры о политике. Но это не были какие-то антисоветские разговоры. Как и 90 процентов советских людей просто поругивали власть.
А самое интересное, что мы сейчас вернулись в ту эпоху и снова на кухнях критикуем власть, но гораздо жёстче, что, впрочем, никак не сказывается на самой власти, которую такое устраивает.
В спектакле мы видим интеллигента А. в исполнении Юрия , который сбежал в другую страну потому, что его не устраивал существующий строй в своей стране и работягу, которому нужны деньги, потому что у него жена и дети. Они разные. Интеллигент А. - рафинированный молодой человек, уехавший несмотя на то, что у него была хорошая работа. Он целыми днями лежит на кровати и пишет книгу. Как он зарабатывает непонятно, но деньги у него есть и за квартиру уже три месяца платит он.
Работяга Х., которого играет Игорь Скляр, наоборот этакий хитрован со смекалкой, любит приврать, скуп. Мы узнаём, что он работает на вредном производстве, на какой-то машине копает канавы и гробит своё здоровье, несмотря на то, что на такой работе долго не живут и у него есть любимая игрушка-пёс, в котором он, как мы узнаем дальше, зашил свои деньги.
И вот начавшийся с бытового, во многом шутейного разговора о том, как якобы Х. на вокзале встретил некую мадам и занялся с ней сексом в туалете, а А. парировал на это что он врёт и рассказал что Х. на самом деле делал, превращается в драму. Мы видим как А. хочет уйти навсегда из квартиры, так как Х. не поделился с ним чаем. Но мы понимаем, что никуда он не уйдёт. Идти ему некуда.
А затем, когда А. вскрывает игрушку-пса Х. и оттуда высыпаются деньги, которых у него, якобы, нет. И начинается спор, где Х. говорит, что он накопит денег и уедет к жене и детям, а А. возражает, что никуда Х. не уедет. И мы опять понимаем, что Х. действительно никуда не уедет. Ведь он приехал в другую страну за своим личным счастьем.
И даже в том, что Х. рвёт деньги, а потом делает попытку повеситься, а А. рвёт свои рукописи мы видим просто браваду друг перед другом. Потому что они хоть и разные внешне, но одинаковые внутри.
Мощнейшая игра актёров. Два часа они держат зал без всяких декораций и, практически без каких-либо действий, просто сидя друг перед другом на стуле. Это надо видеть.
Совсем недавно видел эту же, некогда знаменитую, гремевшую, впоследствии подзабытую, а сейчас неожиданно опять вызывающую повышенный интерес пьесу Славомира Мрожека в постановке моего родного Ульяновского областного драмтеатра, и даже с участием моего бывшего однокурсника по филфаку УлГПУ, на сцене театра "Человек" в рамках фестиваля "Диалоги"
Показ прошел, с одной стороны чрезвычайно (и даже для меня, признаюсь, неожиданно...) удачно, а с другой, "живьем" ульяновский спектакль смогли увидеть всего 13 человек (фестиваль выпал на период 25-процентных ограничений, а ровно столько зрителей составляют четверть от максимальной наполняемости зала "Человека"), так что его пригласили в Москву повторно (редчайший случай!) и в обозримом будущем снова должны сыграть, уже на другой площадке. В рамках тех же "Диалогов" состоялось и превью "Немого официанта" в постановке Юрия Муравицкого по еще более старой пьесе Гарольда Пинтера, я успел посмотреть его (выпущенную приболевшим на тот момент режиссером по скайпу), и с тех пор, к сожалению, показы спектакля постоянно отменялись из-за болезни артиста, но, надеюсь, "Немой официант" еще заявит о себе громко.
А с тех пор Юрий Муравицкий сделал в "Арт-партнере XXI" собственных "Эмигрантов", внешне ничуть не похожих на спектакль Максима Копылова из Ульяновска: там героев помещали в бытовой антураж, и несмотря на обобщенность типажей, уже самим автором лишенных имен, но обозначенных только литерами, актеры создавали полноценные, сложные, изменчивые характеры. Юрий Муравицкий в своем спектакле уходит и от быта, и от характерности - обстановкой, где существуют герои его "Эмигрантов", становится абстрактный павильон, точнее, открытый подиум без стен и задник-экран, позволяющий менять подсветку, совсем пустой, не считая пластиковых стульев и таких же бутылок с водой, а еще видеопроекций, изредка возникающих на экране (картинка пса Плуто, упоминаемого в пьесе; нарисованная схематично консервная банка; эмблема "евро", во времена Мрожека еще не существовавшей в проекте). В рекламных анонсах предуведомляют, что события пьесы разворачиваются на телешоу - можно увидеть тут и антураж телестудии, и даже отсыл к какой-то конкретной старой передаче, хотя режиссер не стилизует диалог персонажей под ток-шоу напрямую; более того, присутствие между героями-антагонистами молчаливого третьего, трубача, время от времени наигрывающего протяжные джазовые мелодии, но безучастного к кипящим вокруг него страстям, не принимающего на себя роль "ведущего" и даже как будто вовсе не замечающего присутствие двух основных собеседников, добавляет действию условности, а не привязывает его к конкретным реалиям телевизионного производства.
Согласно авторским ремаркам и дополнительным указаниям обитающие в подвале персонажи-эмигранты - мужчины примерно одного возраста, но разных социальных слоев и уровня образования, один работяга, трудовой мигрант, другой интеллигент, политический беженец. В спектакле Юрия Муравицкого оба внешним имиджем уравнены в статусе - наряжены в одинаковые и модные, стильные, с иголочки костюмы, оба также в пижонских красных (!) носках, и держатся с равной степенью вальяжности, раскованности - вчерашние хипстеры, да и только; а вот различия возрастные между Игорем Скляром и Юрием Чурсиным бросаются в глаза - плюс к тому, коль скоро артисты проговаривают ремарки вслух, еще и иронически ими обыгрываются поначалу в интонациях, жестах, мимике. Но ключевой режиссерский "фокус" в том, по-моему, и состоит, чтоб и это внешнее различие чем дальше, тем больше стереть - уравнять персонажей окончательно и вывести их конфликт из плоскости социально-бытовой, а также психологической; сделать их носителями определенных идей, взглядов, мировоззрений - и уже не характеры, не людей, но эти взгляды и воззрения столкнуть в абстрактной, стерильной обстановке, если угодно, "ток-шоу".
Отсюда и ритм выстраивается в спектакле по нарастающей - "Немой официант" Муравицкого держал ровный, нарочито замедленный темп, отсылающий к компьютерной игре, а персонажей делал искусственными, роботообразными, "мультяшными"; в "Эмигрантах", наоборот, живость дискуссии лишь подогревается отсутствием предметной атрибутики (все бытовые обстоятельства, связанные с условием жизни героев, их питанием, их взаимодействием в пространстве, не обозначаются, но только озвучиваются). К кульминационному моменту, когда "работяга" рвет накопленные непосильным трудом на вредной для здоровья работе купюры, а "интеллигент" уничтожает едва начатую рукопись, актеры доходят до скороговорки, в которой действия и их описания уже не следуют друг за другом, но наслаиваются во времени. У Юрия Чурсина при том все же побольше возможностей для демонстрации пластической эксцентрики, а рисунок для Игоря Скляра предложен более сдержанный, скупой на движения - впрочем, Скляр с завидной лихостью забирается ногами на стул! - то есть некоторые контрасты формальные между сторонами "дискуссии" все-таки режиссером сохраняются, где-то и заостряются, при отсутствии, казалось бы, обыденных поводов для конфликта между ними. Так что совершенно неожиданно пьеса Мрожека вызывает ассоциации (которых совсем не возникало у меня на ульяновском спектакле!) с "Бесами" Достоевского.
С оглядкой все же на ульяновский спектакль, где при всех его достоинствах в целом мне показался неудачным и даже совершенно неуместным благостный, общепримиряющий, "дающий надежду" и оставляющий "свет в конце тоннеля", какой-то прям "святочный" финал, я особенно оценил повисающий в воздухе вопрос персонажа Юрия Чурсина в постановке Юрия Муравицкого: разыгранный тут актерами спор (о свободе прежде всего - политической и экономической, об их неизбежной взаимосвязи, о диалектическом противоречии между ними...), удачно переведенный в область этических и философских, а не практических категорий и поведенческих моделей, конечно, небессмысленный - но с точки зрения прикладной безрезультатный; единого, общего для всех решения, вывода с примирительными, оптимистическими перспективами в его исходе быть не может принципиально - у каждого, кого сам вопрос цепляет, ответ будет собственный; и еще не факт, что вынесенный из спектакля совпадет с тем, к которому мы невольно и, по большей части, неосознанно, приходим в повседневном своем существовании.
Юрий Чурсин и Игорь Скляр в спектакле «Эмигранты» — пьесе польского абсурдиста Славомира Мрожека, одного из самых важных драматургов XX века. Написанная в 1974 году пьеса была запрещена в СССР, а в начале 90-х пьеса о свободе, наиболее значительное произведение поляка, стала откровением.
Режиссер Юрий Муравицкий, лауреат Золотой Маски, за плечами которого множество постановок в разных уголках, от Перми и Ростова-на-Дону, где он много лет возглавлял театр, - до Берлина и Таллина, решил спектакль в формате телешоу (задник переливается всеми цветами от Кати Щегловой): в студии спорят два героя. Предмет их спора гораздо шире, чем круг проблем человека, живущего в чужой стране. Они спорят, как им надо жить - просто или сложно, жить, «как все», или усложнить поисками смысла существования. Очень интересно следить за этим диалогом антиподов, которые за два часа обсуждают все-все-все темы, начиная от банально бытовых, заканчивая сложносочинёнными философскими и противопоставлением «здесь» и «у нас» (мне почему-то всякий раз мнился СССР, который для Мрожека стал первой «заграницей»).
Вчера довелось присутствовать при рождении спектакля и я как будто чувствую теперь какую-то причастность и так хочется успеха, уж больно хороши артисты! По сюжету их персонажи, A и Х, ровесники, но в жизни их разделяет поколение; Игоря Борисовича мы узнали по кинематографу совсем юным, эталонным синтетическим исполнителем в к/ф «Мы из джаза», а затем он сумел покорить своими театральными ролями в одном из признанно лучших Малом Драматическом Театре в Додинских постановках. Чурсин заявил о себе в театре сразу, в спектаклях Серебренникова, и с тех пор всё, за что бы ни брался этот харизматичный артист, как повод must see (на днях видела его в стильной премьере Ренаты Литвиновой на большой сцене МХТ Чехова).
Я бы всё же сказала, что это не дуэт, а трио, - все два часа на сцене между собеседниками, эмигрантами, трубач (Олег Чернов). Его соло для на трубе накладываются на очень привлекательную музыку.
ДК "Созидатель" для меня звучит так же как 3-я улица Строителей. Ну то есть, без навигатора я не найду. Но и навигатор, как оказалось, не помощник. Бессмысленно намотав в точке назначения три круга на машине, пришлось всё-таки искать "ногами" - так хотя бы вывески можно рассмотреть. В общем, выручила женщина с огромным мохнатым псом по кличке, возможно, Плуто, подробно меня обнюхавшим. На мое "здрасьте", сразу отреагировала: "в ДК Созидатель"? Значит, не одна я такая заблудившаяся среди больших и маленьких любителей искусства
Действие пьесы Мрожека перенесено в телевизионную студию - ну так принято сейчас выносить личное на публику. Прошло то время, когда собирались на кухне и спорили до утра в клубах сигаретного дыма. Теперь кости моют на многочисленных токшоу у Соловьева, Малахова и прочих.
Передышки не будет, всё в соответствии с заявленным жанром тв шоу- поезд мчится с быстротой молнии (хотя по скорости Канделаки им всё равно не переплюнуть). Пара одинаковых, как сиамские близнецы, ведущих расскажут прильнувшим к экранам телезрителям историю двоих мужчин в эмиграции. Где прячут деньги, что пьют, каких женщин страждут... От их рассказа публику ничто не будет отвлекать - на сцене/в студии - лишь два стула, бутылки с водой для "ораторов" и скучающий трубач, вдоволь наслушавшийся таких историй. Яркий, переливающийся всеми цветами неоновой радуги, свет, видимо, символизирует праздник нашей жизни.
Из иллюстраций разве что проекция консервной банки на задник сцены с абракадаброй на этикетке. АА (первый персонаж) ее читает, а ХХ (второй персонаж, купивший на ужин корм для собак вместо обычной консервы) видит только чередование различных символов - так, наверное, выглядит текст для незнающего язык. Имена персонажам не нужны, да и персонажей вроде нет: это сами ведущие разыгрывают перед зрителями комичные и абсурдные ситуации "в лицах".
Чью сторону примет публика?
Гастарбайтера ХХ, вкалывающего без выходных, зарабатывающего на дом для своей семьи и мечтающего о недельном отпуске, чтобы выспаться? Каково ему делить в целях экономии средств подвальную каморку с АА, который ради своего эксперимента "выдавить из человека раба", подвергает соседа издевательствам и провокациям? И таки выдавил. Но ХХ, при этом - скряга, приспособленец, простак...
Или публика поддержит "политического" отверженца АА, проводящего в бездействии часы, но бесконечно рассуждающего о свободе?
Мне кажется, здесь режиссерская ловушка. Пустое пространство сцены всё внимание приковывает к артистам. А очутившись лицом к лицу с обаятельными Юрием Чурсиным и Игорем Скляром, невозможно почувствовать отвращение к их героям. Для меня счет в этом матче - ничья
Выходишь из театра на улицу, а там метель, вьюга, ДК "Созидатель" летит к звездам. И так хочется домой пить чай с лимоном - "где еще можно напиться приличного чая, как не у себя дома. Эх, дом, дом..." ("Эмигранты" Славомир Мрожек). А спектакль отличный.
Первые десять минут были, наверное, самыми сложными, когда адаптируешься к подаче материала и к спартанским условиям на сцене, которые отнюдь не облегчают задачу ни актёрам, ни зрителям.
А потом вдруг случается погружение. И уже видишь и горлышко разбитой бутылки, и топор, и бедного песика . Язвительные реплики А, внезапно сменяющиеся некоторой долей сочувствия, беспомощная простота Х при всех его хитростях и уловках - это все затягивает внутрь истории. Яркими искорками для зрителя вдруг высвечиваются узнаваемые черты - близких, друзей, знакомых и, конечно, свои собственные. А два человека на сцене, сначала казавшиеся непримиримыми антагонистами вдруг предстают едва ли не близнецами.
Уникальный актерский дуэт настолько тонко и точно транслирует каждую эмоцию, все взлеты и падения, все надежды и крушение этих надежд, что зритель просто не может остаться равнодушным. И трогательно звучащий в финале со сцены призыв к взаимопониманию на основе общности целей и устремлений, обращенный к зрителю напрямую, оставляет удивительно светлое впечатление.
История, идеальная для антрепризы своей аскетичностью: двое персонажей, музыкант, экран, стулья, пластиковые бутылки, красные носки. Как по щелчку пальцев сюжет и обстановка возникает из ничего: из проговоренных вслух ремарок, из подсвеченного экрана-задника и, конечно, из работы актёров и нашего воображения. В этом смысле эмигранты — не только герои пьесы, но и все мы, соскальзывающие следом за ними, даром что одетыми с иголочки, в адский подвальчик без окон — в ковчег, Коцит, во чрево кита с фиктивными кишками-трубами, в маргиналии, в «достоевское подполье», в горьковское «На дне».
Вот тебе только перечисляют все несуществующие предметы, наполняющие невидимую комнату, и ты думаешь «ага-ага, подключите воображение» — а вот через какие-то несколько минут ты видишь стол, о который разбивается бутылка и стеклянную «розочку», зажатую в кулаке (а слева от меня вскрикивает женщина, которая, несомненно, это тоже видит).
В рекламных проспектах стилистка постановки сравнивается с ток-шоу. Отсюда и экран, и пиджаки с галстуками, и неестественное освещение. Сами исполнители в интервью намекали, что их диалог близок ко внутреннему монологу, бесконечному спору с самим собой — до такой степени, при всей разности, родны друг другу интеллектуал А и простак Х («Ты не спрашиваешь, чего я боялся. Ты все понимаешь, мы же из одной страны»). И в этом смысле «Эмигранты» — действительно шоу, в котором все спецэффекты, все «вотэтоповороты», весь невероятный каскад событий, почти два часа держащий зрителей на крючке, — Х разбивает бутылку и с осколком в руке угрожающе подходит к А, А извиняется, увиливает, но в итоге доводит Х до исступления и попытки самоубийства — все это роскошество создано только и исключительно актёрской игрой, феноменальным мастерством и талантом Игоря Скляра и Юрия Чурсина.
Разворачиваются события накануне Нового года и, удивительно, но у нас в Иркутске (в середине мая!) за день до спектакля шёл снег...
Всё действия происходят с двумя персонажами (Чурсин Юрий - герой А и Игорь Скляр - герой Х). Также на сцене присутствует трубач, подпитывающий эмоционально острые моменты, и фон-экран...
Сначала - блестящая режиссерская версия Муравицкого с бесподобным дуэтом Чурсин - Скляр. Раскрытие образов постепенное, но с нарастающей экспрессией и эмоциональными сюрпризами, которые не отпускают, приковывают внимание зрителя на протяжении всего действия. Мастерское раскрытие множества смыслов и подтекстов с помощью бытовых деталей и деталек, с помощью разговорных кружев , когда вроде бы обыкновенные кухонные диалоги как бы исподволь, незаметно для зрителя, вдруг сплетаются, складываются в огромные общефилософские вопросы, в вопросы категории: что есть человек? зачем он(я) здесь? Может ли человек в современных реалиях быть свободной самоопределяющейся личностью или может только выбирать подходящую ему социальную клетку, может только выбрать социальную тюрьму, более-менее подходящую под его понятия о психологическом комфорте?
В оформлении страницы использованы фото Дарьи Шапиро, Валентины Банщиковой, Анны Ясыревой
- Страница спектакля на сайте Театрального агентства "Арт-Партнер XXI"
- Пьеса Славомира Мрожека